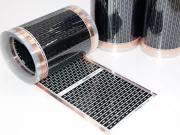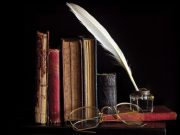Ученый раскрыл тайну трагической гибели режиссера Мейерхольда: «играл с огнем» Поделиться
Человек-загадка. Один из самых «резонансных» режиссеров. Творец нового мира на сцене, которого растоптал и уничтожил реальный мир, воцарившийся вокруг. Это Всеволод Мейерхольд. В начале февраля 2025-го исполнилось 85 лет со дня его трагической гибели. Некоторые подробности последнего периода жизни великого театрального творца удалось узнать от искусствоведа, долго занимавшегося изучением биографии Всеволода Эмильевича. В результате обнаружились странные и страшные вещи.

Пугачевская башня Бутырской тюрьмы.
Последний раз с Александром Шерелем — доктором искусствоведения, профессором, радиоведущим, автором сценариев документальных фильмов, корреспондент «МК» встретился незадолго до его смерти, зимой 2005-го. Александр Аркадьевич рассказал тогда о ставших ему известными эпизодах, предшествовавших аресту выдающегося режиссера, связанных с его мученической тюремной эпопеей и смертью в «Бутырке». А.А.Шерель.
А разговор Шерель начал с упоминания о непостижимости этого человека.
— Мейерхольд еще долго будет оставаться в числе самых загадочных персонажей отечественной культуры. В конце 1950-х я был назначен заместителем председателя комиссии по изучению творческого наследия знаменитого театрального новатора. К тому времени Мейерхольд уже был реабилитирован, но его имя еще оставалось для многих синонимом чего-то вроде «уголовник в искусстве». Когда несколько лет спустя мы решили устроить в Московском университете вечер памяти Всеволода Эмильевича и пришли поговорить о нем с Дмитрием Шостаковичем, тот предупредил: «Учтите, Мейерхольд — это как горизонт: чем ближе к нему приближаетесь, тем дальше он оказывается».
Углубляясь в детали биографии, убеждаешься, что Мастер зачастую будто специально норовил «шутить с огнем», провоцировать обострение ситуации вокруг себя. И здесь заметны элементы некой театрализации. Мейерхольд обожал играть, обожал розыгрыши. Это просматривается и в истории его театра, и в истории взаимоотношений с власть имущими.
— Неужели он сознательно нарывался на неприятности?
— Это слишком примитивное представление о его поступках. Режиссер-изобретатель попросту не вписывался в нормы социалистического реализма. Уже после реабилитации в 1955 году много говорилось о том, что он был убежденным коммунистом. Так ли это? А может, Всеволод Эмильевич лишь лицедействовал — изображал верность коммунистическим идеалам?
— Но если устремления большевиков ему на самом деле не были столь милы, разве не мог он уехать из страны?
— Еще в 1930-м, когда театр Мейерхольда отправился на гастроли в Берлин, состоялась встреча Мастера с великим актером Михаилом Чеховым, жившим в эмиграции. Тот сказал: «Всеволод Эмильевич! Вам не следует возвращаться в Москву: вас там погубят». Как вспоминал Чехов, после этих его слов Мейерхольд погрустнел, однако заявил примерно следующее: я знаю, что вы правы, но мое возвращение в Советский Союз — дело чести!
Режиссер мог скрыться за границей и позднее. Практически каждое лето он ездил отдыхать в Европу; даже в последние его годы у Всеволода Эмильевича оставался шанс уехать через Чехословакию: там были друзья, которые помогли бы остаться, найти достойную работу… Почему не сделал этого? Ведь видел же, как власти измываются над его другом Шостаковичем, как нарастает в стране волна арестов…
— Не понимал, что его ожидает?
— Тут несколько вариантов. Например, известный режиссер Валентин Плучек, когда я поинтересовался его точкой зрения на сей счет, заявил: «Мейерхольд верил в коммунизм!» Другая версия, самая житейски-простая (ее придерживалась умершая недавно Мария Валентей — внучка Мастера): Всеволод Эмильевич очень любил свою жену Зинаиду Райх и двух ее детей, которые ему были как родные. Если остаться за границей, они окажутся на положении заложников. Такого он не мог позволить.
А еще от одного режиссера, Михаила Левитина, я услышал совсем иное мнение: «Мейерхольд в своей жизни так много играл со всеми. И всех переигрывал. Возможно, уверившись в себе, он решил поиграть и со смертью?» Тюремные фото «особо опасного преступника».
Ату его!
Александр Аркадьевич достал из своих «закромов» и показал мне удивительное документальное свидетельство.
— Это газета «Известия» за 18 декабря 1937 года. В номере целая колонка отведена публикации «открытых писем представителей общественности». В те времена была весьма широко распространена форма таких публичных доносов, — пояснил Шерель. — На сей раз они касаются знаменитого режиссера, руководителя театра Всеволода Мейерхольда. Обратите внимание, кто стал его обличителем.
Старые газетные строчки действительно озадачили.
Народный артист СССР Борис Щукин: «Вы явились автором целого ряда спектаклей, которые клеветали на нашу советскую действительность…»
Артист Михаил Царев: «Я в течение долгого времени мучительно ощущал отсутствие в театре им. Мейерхольда принципиальной репертуарной линии…»
Главный режиссер Малого театра Пров Садовский назвал театр Мейерхольда «школой формалистических выкрутасов».
А вот и вовсе неожиданный автор. Его письмо озаглавлено «Банкротство»: «Театр Мейерхольда для меня всегда был чужим… Мне не по душе эксперименты, проделываемые над любимыми пьесами. Я против туманных режиссерских вывертов, извращающих смысл событий и облик героев… Банкротство театра Мейерхольда — это логический конец неправильного, ошибочного пути…» Подпись под письмом: полковник Валерий Чкалов.
— Неужели прославленный ас действительно мог написать такое?
— Скорее всего, текст сочинили другие, но подписал именно он — Валерий Павлович, кумир всего Советского Союза. Сделал это от безысходности, выполняя «высшую» волю? Ведь в то время над летчиком-героем уже «погромыхивал гром», Чкалов, что называется, ходил по лезвию ножа. Или причина иная?
В любом случае данная подборка «открытых писем» была опубликована и послужила веским аргументом для оправдания ликвидации мейерхольдовского театра, который закрыли в начале января 1938-го.
К слову сказать, на это событие в культурной жизни сразу же отреагировали военные. Командованием Московского округа было предложено исключить руководителя театра, оказавшегося теперь «вредным», Всеволода Мейерхольда из числа почетных красноармейцев 1-го стрелкового полка 1-й пролетарской стрелковой Краснознаменной дивизии (таковым он числился еще с 1926 года).
— Закрытие любимого детища — ГосТиМа — это уже очень серьезное предупреждение режиссеру о грозящей лично ему опасности. Но ведь и до того были какие-то вещие знаки?
— Тучи над головой Мастера сгущались постепенно. В конце 1937 года запретили его новый спектакль по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». «Правда» после этого опубликовала разгромную статью «Чужой театр», где Всеволода Эмильевича называли режиссером, «чуждым советскому искусству». Публикация в главной газете страны стала отмашкой, сигналом для других: ату его! В печатных изданиях замелькало новое уничижительное слово — «мейерхольдовщина». Ему единственному из всех тогдашних деятелей культуры высшего ранга не было присвоено недавно учрежденное звание народный артист СССР.
Последний «знак беды» проявился уже летом рокового для Всеволода Эмильевича 1939 года. Тогда в Москве состоялась Всесоюзная режиссерская конференция. Руководство страны на ней представлял зам. председателя Совнаркома и недавний генпрокурор А.Вышинский. Для публикации в газетах и журналах была сделана парадная фотография: группа ведущих советских режиссеров вместе с грозным вице-премьером. Мейерхольд сел по левую руку от Андрея Януарьевича. Однако на страницах периодических изданий читатели увидели совсем иное: слева от Вышинского находится известный режиссер Алексей Попов! Ретушерам велено было вмонтировать его вместо Мейерхольда. «Письма общественности».
«Ни единого слова правды»
Далее Александр Аркадьевич перешел к рассказу о самых трагических днях в жизни уникального автора сценических постановок.
— После выступления на упомянутой выше конференции Мейерхольд уехал в Ленинград, где тоже имел квартиру: еще Киров выделил Мастеру жилплощадь в «номенклатурном» доме на набережной реки Карповки, рассчитывая перетянуть его работать в Северную столицу.
Вскоре по приезде он отправился на Большой проспект в гости к бывшему артисту своего театра Эрасту Гарину. Засиделись допоздна — благо в городе царили белые ночи. Домой Всеволод Эмильевич засобирался лишь под утро 20 июня. Жена Эраста Павловича потом вспоминала, что они вышли на балкон помахать идущему по двору Мейерхольду: «Он обернулся к нам, поднял прощально руку и направился к арке ворот… И вдруг мы увидели, как две огромные черные крысы двинулись за ним следом через двор и скрылись в темном провале арки!»
— Какая аберрация памяти! — воскликнул Шерель. — Актер и его супруга увидели в образе крыс две черные машины, следовавшие по пятам за Мейерхольдом… Когда он пришел к себе на Карповку, возле подъезда его уже ждали. Оперуполномоченный НКВД Антропов предъявил ордер на арест и обыск.
В столь отчаянный момент Мастер не потерял самообладания. Всеволод Эмильевич заметил, что показанный ему документ выписан в Москве, а печать на нем стоит почему-то ленинградская: «Это неправильный ордер!» И отказался выполнять приказы сотрудников органов. Те не рискнули лезть на рожон. Одна из машин с оперативниками осталась сторожить режиссера, а вторая помчалась в управление НКВД срочно оформлять «правильный» ордер. Из-за такой непредвиденной заминки сама процедура ареста Мейерхольда происходила уже утром, когда некоторые жильцы дома возвращались в свои квартиры с прогулок по набережным, из гостей… Одного из них, соседа Всеволода Эмильевича по подъезду, чекисты остановили и потребовали, чтобы он был понятым при обыске.
— Существовала ли какая-то конкретная причина ареста?
— В числе обвинений, которые зачитали Мейерхольду сразу же, как только он был доставлен в «Большой дом» на Литейном проспекте, фигурировало такое: «За преступную связь с Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей».
— Но ведь никто из этих литераторов тогда не находился под стражей!
— В том-то и дело. Существует версия, что после того, как закончились бы уже развернутые судебные процессы над военными, над правотроцкистским блоком, Сталин собирался устроить очередную массовую чистку. На сей раз — среди творческой интеллигенции. Вот для этой будущей расправы и готовили «исполнителей ролей». Фамилии трех из них как раз фигурировали в деле Мейерхольда… Однако задуманное судилище не состоялось. Что остановило «отца народов»? Видимо, главным тормозом стала начавшаяся ближе к зиме война с финнами. Когда северные соседи крепко потрепали Рабоче-Крестьянскую Красную…, вождь решил притормозить: в сложившейся ситуации сажать известных артистов и писателей, с которыми тогда дружила верхушка армии, было опасно… Но я думаю, если бы такой судебный процесс все-таки состоялся, одной из ключевых фигур на нем стал бы именно Мейерхольд. Среди людей искусства он играл ту же роль, что и маршал Тухачевский среди военных.
В перечне обвинений, предъявленных Мастеру на первом же допросе, помимо «преступной связи» с упомянутыми выше писателями значилась «работа на японскую разведку». Не забыли режиссеру и еще одно «прегрешение»: в 1920-е годы он много общался с Троцким. А свой спектакль «Земля дыбом» даже посвятил «первому красноармейцу Льву Давидовичу Троцкому». За то, что нарком помог оформить постановку, приказав выделить для нее военную амуницию, прожектора, полевые телефоны и даже легковой автомобиль с несколькими мотоциклами (по ходу спектакля они выезжали через зрительный зал на сцену).
Мы не знаем точно, что происходило с Мейерхольдом в первые часы после ареста. Может, его уже начали тогда бить, а может, просто показали комнаты для допроса особо опасных преступников и дали послушать крики, доносящиеся оттуда. Допускаю, что чекисты продемонстрировали режиссеру какие-то документы, которые на него очень сильно подействовали…
Как бы то ни было, он сдался и ночью в камере написал на нескольких листах свои показания. Уже в наше время эти бумаги смогла прочитать Мария Алексеевна Валентей, внучка режиссера: ей позволили ознакомиться в КГБ с уголовным делом Мастера. Как она рассказывала мне, Мейерхольд там признавался во всем, что ему инкриминировали. Сохранилось письмо, написанное Всеволодом Эмильевичем позднее: «…Унижением и болью вырвали мое признание, мою подпись под листом бумаги, где нет ни единого слова правды…»
Через сутки начальник ленинградского управления НКВД получил телеграмму за подписью заместителя наркома Гоглидзе: «Арестованного Мейерхольд-Райх Всеволода Эмильевича прошу конвоировать… с особым конвоем, как особо опасного государственного преступника… в гор. Москву».
Вслед за тем появилось распоряжение командира бригады конвойных войск: «22 июня с.г. очередным маршрутом №3 в отдельной камере тюремного вагона, изолированно от других преступников, отконвоируйте из Ленинграда в гор. Москву… особо опасного преступника Мейерхольд-Райх Всеволода Эмильевича, приняв его на маршрут в тюрьме УГБ (ул. Воинова, 25). Для конвоирования указанного… преступника назначьте особый конвой под командой опытного младшего командира, которого тщательно проинструктируйте…»
Сперва Мейерхольда содержали во внутренней тюрьме на Лубянке, потом перевели в Бутырскую тюрьму. Ныне это камера №305, расположенная в так называемой Пугачевской башне. Известно, что во время пребывания в «Бутырке» режиссер заболел, и его поместили в тюремную больницу, которая находилась в помещении бывшей церкви. Причем данное лечебное заведение было предназначено в том числе и для тронувшихся умом. И это — очередная загадка Мастера. Какой недуг с ним приключился? Может быть, действительно нервы не выдержали всех ужасов сталинских застенков. Хотя нельзя исключить, что он опять решил поиграть — уже со своими тюремщиками, — и притворился психически нездоровым. Якобы администрация «Бутырки» даже вызывала психиатров, чтобы те разобрались с мейерхольдовским диагнозом.
Находясь в тюрьме, Всеволод Эмильевич неоднократно писал письма на имя членов Верховного суда, Вышинскому… Вот одно из них, датированное 2 января 1940 года и адресованное председателю Совнаркома В.М.Молотову: «Я никогда не был шпионом. Я никогда не входил ни в одну из троцкистских организаций (я вместе с партией проклял Иуду Троцкого). Я никогда не занимался контрреволюционной деятельностью… Меня здесь били — больного 66-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам и по местам от колен до верхней части ног… Боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток… Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин… И я пустил в ход самооговоры…»
Спустя 11 дней тому же адресату: «…Я отказываюсь от своих показаний, как выбитых из меня, и умоляю Вас, главу Правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю мою Родину и отдам ей все мои силы последних годов моей жизни».
Но, видимо, его мольбы о справедливости и оправдания вызывали наверху только раздражение, и в конце концов оттуда распорядились: кончайте.
Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР состоялось 1 февраля 1940 года прямо в одном из кабинетов Бутырской тюрьмы. Судьи сидели на кожаном диване, Мейерхольд — на стуле против них. Сохранилась протокольная запись его последнего слова. «Все, что я имею, я получил от Советской власти, — говорил Мастер, а закончил так: — Мне 66 лет, но я хочу, чтобы мои дочери знали, что я жил и умираю настоящим коммунистом!»
Там же, в тюремном кабинете, ему зачитали обвинительное заключение: «…В 1934–1935 гг. Мейерхольд был привлечен к шпионской работе. Являясь агентом английской и японской разведок, вел активную шпионскую работу, направленную против СССР… Обвиняется в том, что является кадровым троцкистом, активным участником троцкистской организации, действовавшей среди работников искусства…» Далее последовал приговор: смертная казнь.
На следующее утро, 2 февраля, в камеру к Мейерхольду вошел особо уполномоченный НКВД (в будущем он станет начальником «Бутырки») А.В.Калинин вместе с несколькими охранниками. По крутой лестнице Мастера перевели со второго этажа на первый — в специальное расстрельное помещение. Через минуту все было кончено…
Убедившись, что заключенный мертв, Калинин сделал соответствующую запись в акте об исполнении приговора. Причем допустил ошибку в имени: написал «Всевольд» вместо «Всеволод».
Камера, где оборвалась жизнь Мейерхольда, сохранилась. К тому времени, когда мне удалось там побывать, ее приспособили для временного размещения заключенных, которых предстоит вывозить за пределы тюрьмы. Ведь в этом помещении есть выход наружу. Раньше он использовался для того, чтобы выносить трупы казненных. Я заметил на цементном полу канавку для стока крови — напоминание из страшных сталинских лет.
Дважды умерший
Александр Шерель поделился с корреспондентом «МК» некоторыми легендами, связанными с судьбой великого режиссера.
— За те несколько десятилетий, что я занимаюсь историей Мейерхольда и его театра, не раз доводилось встречаться с людьми, которые убеждены: Мастер избежал смерти в «Бутырке» зимой 1940-го. Некоторые утверждали, будто бы много лет спустя в ГУЛАГовских зонах они видели среди заключенных живого Мейерхольда. Кое-кто рассказывал даже, мол, ему довелось работать в лагерном театре, возглавляемом Всеволодом Эмильевичем.
Существование подобных версий подогревает тот факт, что в соответствующих инстанциях наследники Мейерхольда впоследствии получили два варианта свидетельства о его смерти. В одном из них указана дата кончины — 2 февраля 1940 года — и причина: «упадок сердечной деятельности». Согласно другому свидетельству, режиссер скончался 17 марта 1942 года, а в графе «причина смерти» стоит прочерк.
Долгие годы оставалось неизвестным, где погребен Мастер. Лишь сравнительно недавно эта тайна НКВД была рассекречена. Тело убитого режиссера отвезли из «Бутырки» в Донской крематорий, а после сожжения пепел высыпали в общую яму, которая была вырыта на окраине Донского кладбища. Там вместе с Мейерхольдом покоится прах Бабеля, маршалов Тухачевского, Егорова и еще многих тысяч жертв репрессий.
Я помню время, когда над потаенным погребением существовала помойка, куда с кладбища выносили опавшую листву, мусор, старые венки. Но сейчас место приведено в порядок, установлена мемориальная плита.